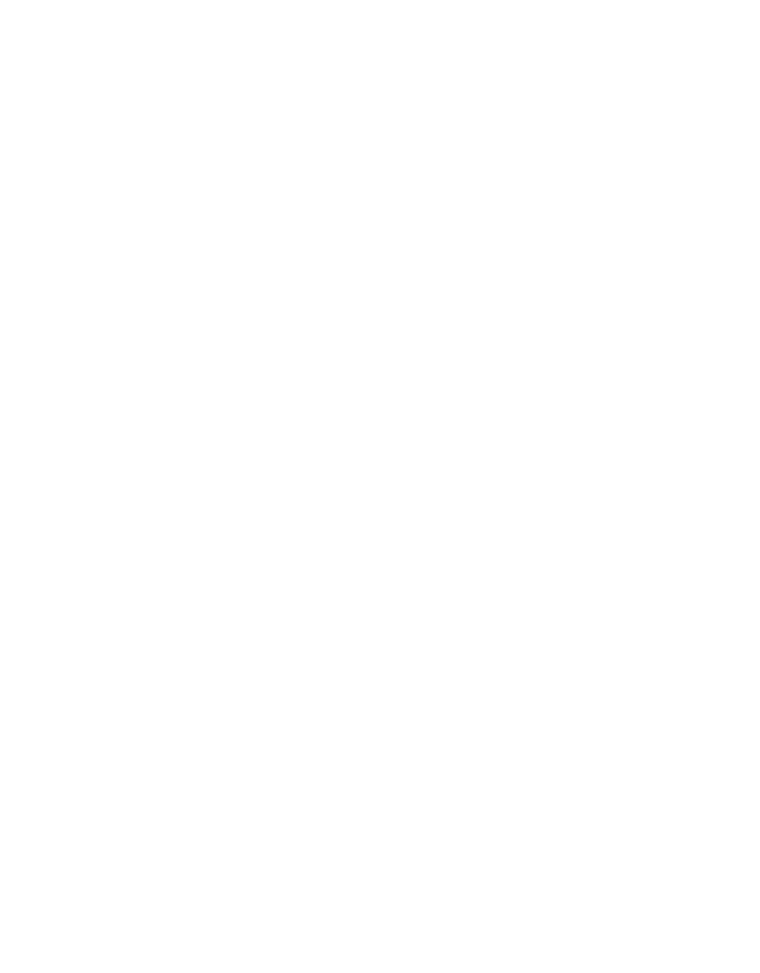Литературоведение
Рыцарь добра и красоты
Олег Вороничев
Алексей Константинович Толстой – личность почти легендарная, вызывающая у разных людей самые различные ассоциации. Одни смутно вспоминают что-то критическое в школьных учебниках советской эпохи о нём как талантливом писателе-классике, но, к сожалению, представителе «чистого искусства», которому были чужды революционно-демократические тенденции в русской литературе XIX века, проявившиеся в произведениях Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова и др. К тому же граф Толстой был богатым наследником, обладателем огромного состояния и другом детства будущего императора Александра II, что в глазах советских критиков ещё больше отдаляло его от народа.
Другие что-то слышали о невероятной физической силе и смелости этого человека, который не только писал о колокольчиках, но и гнул подковы, пальцем вгонял гвоздь в стену и не раз в одиночку ходил с рогатиной на медведя(!). Третьи восхищены благородством, искренностью, честностью – т. е. всеми чертами истинно рыцарской натуры этого «певца, державшего стяг во имя красоты», которые нашли яркое отражение в его произведениях, не оставляющих равнодушным любого читателя, способного мыслить и сопереживать.
Четвёртые вспоминают какие-то фразы из «мудрых мыслей» Козьмы Пруткова или «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (например, «Вы любите ли сыр?» – спросили раз ханжу. «Люблю, – он отвечал, – я вкус в нём нахожу»; Земля у нас богата, Порядка в ней лишь нет и т. п.) и ценят Толстого за искромётный юмор. Пятых интересует, кого он встретил «средь шумного бала», и другие подробности его личной жизни.
Пожалуй, наиболее объективным следует признать мнение третьих. Ведь о писателе судят прежде всего по его творческому наследию. Именно оно, если стало зеркалом и откровением души, если отмечено печатью подлинного дарования, служит мощным стимулом к изучению вех биографии, исторических обстоятельств жизни, семейных отношений и философских взглядов великого человека. Но и эти факторы в конечном счёте важны ровно настолько, насколько способствуют ещё более глубокому проникновению в творческую лабораторию писателя-классика, постижению идейного замысла его произведений.
Художественное наследие А. К. Толстого уже довольно обстоятельно изучено в различных аспектах. Написано немало статей и диссертаций, прежде всего литературоведческих, о творческой манере, поэтике писателя и конкретных произведениях. При этом многие литературоведы и критики как 2-й половины XIX, так и XX столетия полагают, что граф Толстой почему-то оказался вне живого литературного процесса своего времени и «якобы поэтому он принципиально не принимал участия в литературной жизни своей эпохи, подчёркнуто не интересовался насущными вопросами современности и, как сам признался, «грёб против течения» [Фёдоров А. В. Алексей Константинович Толстой и русская литература его времени. – М., 2017].
Ошибочность и предвзятость этого стереотипного взгляда убедительно развенчаны в докторской диссертации А. В. Фёдорова «Творчество А. К. Толстого и русская литература третьей четверти XIX в.» (2018). Да и разве можно признать оторванными от литературных процессов золотого века русской поэзии слова «И всюду звук, и всюду свет, И всем мирам одно начало, И ничего в природе нет, Что бы любовью не дышало» и многие другие проникновенные лирические строки?
Меня как лингвиста в первую очередь привлекают особенности языка и стиля поэтических и прозаических текстов Толстого, т. е. те характерные словесные знаки, частотность употребления и типовые сочетания которых составляют популярные сегодня в филологии понятия идиостиль и идиолект. Вместе с тем следует признать, что в лингвистическом аспекте произведения А. К. Толстого пока ещё мало исследованы. Например, в процитированной выше и других строфах стихотворения «Меня, во мраке и в пыли» литературоведы видят перекличку с «Пророком» Пушкина, но не замечают, что ключевое слово любовь (а оно используется в этом тексте 7 раз, что с учётом веры автора в мистику и магию цифр далеко не случайно) употреблено не в каком-либо из привычных значений, зафиксированных в толковых словарях, а имеет особую, авторскую, религиозно-философскую семантику: «Божественное начало, первооснова и внутренняя энергия мироздания, всего сущего во Вселенной». И такие авторские словоупотребления, а также случаи совмещения общеязыковых и индивидуально-авторских значений в творческом наследии А. К. Толстого нередки. Они требуют отдельного изучения и систематизации, результатом чего мог бы стать Словарь поэтического языка А. К. Толстого.
Нельзя не сказать и о том, что писатель внёс огромный, по сей день неоценённый по достоинству вклад в развитие русской исторической беллетристики, в укоренение «вальтерскоттовских» традиций на русской почве. Именно Толстой создал жанр русской исторической баллады и лучшие его образцы. При этом особого внимания, с нашей точки зрения, заслуживает цикл произведений о наиболее интересовавшем писателя периоде русской истории – эпохе Ивана Грозного и предсмутном времени.
Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис», превосходящая по своей художественной выразительности исторические трагедии всех современников, включая А. Н. Островского, в разное время входила в сценический репертуар многих театров. Замечателен по языку и стилю роман «Князь Серебряный», неоднократно экранизированный, в том числе с Игорем Тальковым в главной роли. Баллада «Василий Шибанов» вошла в школьный курс литературы. Несомненную печать таланта автора как исторического беллетриста несут и небольшие баллады «Князь Михайло Репнин» и «Старицкий воевода».
В этом цикле произведений о событиях отечественной истории второй половины XVI – начала XVII столетий А. К. Толстой, пожалуй, впервые в русской литературе ставит перед собой и читателем болезненный для нашей ментальности и важнейший для понимания исторического пути России вопрос о границах деспотизма власти и безропотной покорности народа. Об актуальности этой проблемы и в наши дни свидетельствуют многие события новейшей истории, в частности сравнительно недавняя острая дискуссия в СМИ по поводу открытия в Орле памятника Ивану Грозному.
Думается, для более объективного представления об этом одиозном историческом лице необходимо не только изучать различные концептуальные оценки его деятельности, изложенные в трудах авторитетных историков, но и внимательно вчитываться в классические произведения об эпохе его правления, в том числе созданные А. К. Толстым, поскольку он, как Пушкин, Лермонтов и другие подлинно талантливые художники слова, писавшие в историческом жанре, обладал редким даром прозревать прошлое: угадывать «дух времени» и доминантные психологические черты исторических лиц.
Эпоха Ивана Грозного вызывала наиболее острый и продолжительный интерес
А. К. Толстого, поскольку он был убеждён, что именно в том времени, когда закладывались основы русской государственности, следует искать истоки и всего негативного в нашей ментальности: деспотизма, лицемерия, предательства, алчности и других пороков, ставших, по мнению писателя, закономерным результатом «заражения татарщиной» во времена монгольского ига.
Период тирании Грозного представлялся Толстому неким апофеозом этого заражения, потому что падение нравственности тогда было фактически инициировано и «узаконено» самим государем, который с помощью учреждённой им опричнины безжалостно расправлялся с аристократией, тысячами казнил невинных людей, а сам предавался оргиям, разврату, грабежам, и трудно назвать порок или грех, которым не была бы осквернена его душа.
На фоне общего падения нравственности, чему немало способствовало поведение самого царя, особое уважение и восхищение у потомков вызывают люди, близкие по духу Алексею Константиновичу: с несгибаемым характером, верные своему долгу, не преступившие законы чести и совести, прямодушные, способные говорить правду в глаза тирану, даже зная, что за это их ожидает мученическая смерть.
Такими мужественными и смелыми людьми, достойными уважения и восхищения Толстого, были стремянный опального князя Андрея Курбского Василий Шибанов, князь Михайло Репнин, старицкий воевода (конюший царя боярин И. П. Фёдоров-Челяднин. – О.В.), воспетые писателем в одноимённых балладах, князь Никита Романович, боярин Дружина Андреевич Морозов и другие положительные герои романа «Князь Серебряный», князь Иван Петрович Шуйский – один из центральных персонажей трагедии «Царь Фёдор Иоаннович», боярин Захарьин-Юрьев в драме «Смерть Иоанна Грозного» и др.
Сам Толстой оба названных выше аспекта своего увлечения эпохой Ивана Грозного очень точно и выразительно сформулировал в романе «Князь Серебряный». В предисловии к нему писатель с горечью признается, что «при чтении источников книга не раз выпадала … из рук, и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования», а эпилог завершает оптимистическим риторическим восклицанием и эмоционально-образным его пояснением:
«Мир праху вашему, люди честные! Платя дань веку, вы видели в Грозном проявление Божьего гнева и сносили его терпеливо; но вы шли прямою дорогой, не боясь ни опалы, ни смерти; и жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и тёмных недрах минувшего».
Наряду с актуальностью исторической тематики не менее значимым фактором популярности произведений А. К. Толстого об эпохе Ивана Грозного является художественно-словесное мастерство автора, высокие качества его языка и стиля, исследовательский интерес к которым искусственно сдерживался в годы советской власти, особенно в период культа личности, упрощённой, вульгарно-социологической оценкой писателя как сторонника теории «чистого искусства».
Не соответствовал временам культа личности с его массовыми репрессиями и пафос художественно-исторических произведений А. К. Толстого, в которых правдиво показаны произвол и безнравственность царя, его опричников, массовые казни, хотя по словам самого Толстого в том же предисловии к роману «Князь Серебряный», «в отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении».
Основным документальным источником для Толстого послужила «История государства Российского» (ИГР) Н. М. Карамзина. ИГР была наиболее авторитетным, подробным собранием сведений о русской истории и – одновременно – богатым арсеналом средств языковой стилизации, создания речевого колорита описываемой эпохи. Концепция Карамзина, основоположника историко-психологической школы, оказала огромное влияние не только на Толстого, но и на Пушкина, Лермонтова и других писателей XIX в., обращавшихся к исторической тематике. Само повествование Карамзина, в большей степени научно-популярное, чем строго научное, к тому же изобилующее психологическими характеристиками исторических лиц (талантливый писатель в авторе ИГР нередко «побеждал» беспристрастного исследователя), способствовало восприятию описываемых исторических событий, деятелей и их оценок как некой непреложной истины: настолько оно гармонировало с мировосприятием и образом мыслей большинства исторических беллетристов XIX века.
Наряду с ИГР писатель использовал целый ряд первоисточников, в частности послания Ивана Грозного и Андрея Курбского, записки иностранных очевидцев – Горсея, Флетчера, Массы и др., разного рода царские указы и т. д. Пользовался писатель и трудами Соловьёва, Костомарова и других историков, которые также ссылаются на первоисточники. На эти литературные памятники и сочинения историков Толстой избирательно опирался при создании документальной основы языка произведений об эпохе Ивана Грозного.
Так, сюжет баллады «Василий Шибанов» Толстой мог найти у Карамзина, но при сопоставлении трёх текстов – баллады, соответствующего фрагмента 9-го тома ИГР и 1-го Послания Курбского Грозному – несложно установить, что такие характерные для стиля опального князя архаичные слова, выражения и грамматические формы, как «ради грех, побил еси, мнишись, в небытную ересь прельщенный» и др. поэт черпает непосредственно из переписки Грозного с Курбским, у Карамзина их нет.
Широко используя доступные источники, Толстой вместе с тем далёк от механического копирования. Учитывая их преимущественно книжный характер, писатель использует методику дробной художественно-стилистической инкрустации: из документальных текстов он отбирает и включает в свой текст отдельные наиболее колоритные слова и их формы, фразеологизмы, словосочетания, реже короткие предложения. В дробной форме документальные языковые средства органически входят в диалоги и монологи героев, составляя их доминирующую стилистическую основу.
Из документов Толстой черпает многие устаревшие языковые средства и в качестве достоверных включает в речь персонажей – реальных исторических лиц. При этом писатель тщательно учитывает стилистическую специфику используемой языковой архаики, выбирает преимущественно такие устаревшие средства, которые были или могли быть употребительными в живой, разговорной речи эпохи Ивана Грозного. Специфически книжные документально-архаизирующие средства Толстой использует в основном для имитации делового стиля эпохи или для создания монологов и диалогов представителей образованной знати, речь которых должна иметь оттенок торжественности или книжности. Всё это способствует стилистической дифференциации речи исторических персонажей, делает её динамичной и выразительной.
Толстой тщательно отбирает из документальных источников не только устаревшие языковые средства, характеризующие специфические особенности русского языка второй половины XVI – начала ХVII столетия, но и актуальную, неустарелую лексику и фразеологию (разговорную, просторечную, народнопоэтическую), неустарелые формы слов, словосочетания, краткие предложения. Благодаря этому документированность речи в исторических произведениях Толстого носит глубинный характер, она распространяется и на основной состав используемых автором актуальных языковых средств.
Бесспорно, все перечисленные качества языка историко-художественных произведений А. К. Толстого – убедительное доказательство высокой степени его мастерства не только как проникновенного лирика, но и исторического беллетриста.
Однако эссе несколько затянулось. Прошу прощения у взыскательных читателей за то, что, вероятно, утомил их большим количеством лингвистических терминов. Но очень уж хотелось показать и менее известные грани разностороннего таланта А. К. Толстого – не только легендарной, но и яркой, самобытной языковой личности.
Читайте его произведения – не спеша, вдумчиво, обращая внимание на все детали, даже кажущиеся на первый взгляд мелкими и незначительными. И тогда художественное мастерство «рыцаря добра и красоты» в ещё большей степени вас очарует и восхитит, и вы найдёте в его гениальных строках столь остро необходимую сегодня пищу для ума и сердца.
Четвёртые вспоминают какие-то фразы из «мудрых мыслей» Козьмы Пруткова или «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (например, «Вы любите ли сыр?» – спросили раз ханжу. «Люблю, – он отвечал, – я вкус в нём нахожу»; Земля у нас богата, Порядка в ней лишь нет и т. п.) и ценят Толстого за искромётный юмор. Пятых интересует, кого он встретил «средь шумного бала», и другие подробности его личной жизни.
Пожалуй, наиболее объективным следует признать мнение третьих. Ведь о писателе судят прежде всего по его творческому наследию. Именно оно, если стало зеркалом и откровением души, если отмечено печатью подлинного дарования, служит мощным стимулом к изучению вех биографии, исторических обстоятельств жизни, семейных отношений и философских взглядов великого человека. Но и эти факторы в конечном счёте важны ровно настолько, насколько способствуют ещё более глубокому проникновению в творческую лабораторию писателя-классика, постижению идейного замысла его произведений.
Художественное наследие А. К. Толстого уже довольно обстоятельно изучено в различных аспектах. Написано немало статей и диссертаций, прежде всего литературоведческих, о творческой манере, поэтике писателя и конкретных произведениях. При этом многие литературоведы и критики как 2-й половины XIX, так и XX столетия полагают, что граф Толстой почему-то оказался вне живого литературного процесса своего времени и «якобы поэтому он принципиально не принимал участия в литературной жизни своей эпохи, подчёркнуто не интересовался насущными вопросами современности и, как сам признался, «грёб против течения» [Фёдоров А. В. Алексей Константинович Толстой и русская литература его времени. – М., 2017].
Ошибочность и предвзятость этого стереотипного взгляда убедительно развенчаны в докторской диссертации А. В. Фёдорова «Творчество А. К. Толстого и русская литература третьей четверти XIX в.» (2018). Да и разве можно признать оторванными от литературных процессов золотого века русской поэзии слова «И всюду звук, и всюду свет, И всем мирам одно начало, И ничего в природе нет, Что бы любовью не дышало» и многие другие проникновенные лирические строки?
Меня как лингвиста в первую очередь привлекают особенности языка и стиля поэтических и прозаических текстов Толстого, т. е. те характерные словесные знаки, частотность употребления и типовые сочетания которых составляют популярные сегодня в филологии понятия идиостиль и идиолект. Вместе с тем следует признать, что в лингвистическом аспекте произведения А. К. Толстого пока ещё мало исследованы. Например, в процитированной выше и других строфах стихотворения «Меня, во мраке и в пыли» литературоведы видят перекличку с «Пророком» Пушкина, но не замечают, что ключевое слово любовь (а оно используется в этом тексте 7 раз, что с учётом веры автора в мистику и магию цифр далеко не случайно) употреблено не в каком-либо из привычных значений, зафиксированных в толковых словарях, а имеет особую, авторскую, религиозно-философскую семантику: «Божественное начало, первооснова и внутренняя энергия мироздания, всего сущего во Вселенной». И такие авторские словоупотребления, а также случаи совмещения общеязыковых и индивидуально-авторских значений в творческом наследии А. К. Толстого нередки. Они требуют отдельного изучения и систематизации, результатом чего мог бы стать Словарь поэтического языка А. К. Толстого.
Нельзя не сказать и о том, что писатель внёс огромный, по сей день неоценённый по достоинству вклад в развитие русской исторической беллетристики, в укоренение «вальтерскоттовских» традиций на русской почве. Именно Толстой создал жанр русской исторической баллады и лучшие его образцы. При этом особого внимания, с нашей точки зрения, заслуживает цикл произведений о наиболее интересовавшем писателя периоде русской истории – эпохе Ивана Грозного и предсмутном времени.
Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис», превосходящая по своей художественной выразительности исторические трагедии всех современников, включая А. Н. Островского, в разное время входила в сценический репертуар многих театров. Замечателен по языку и стилю роман «Князь Серебряный», неоднократно экранизированный, в том числе с Игорем Тальковым в главной роли. Баллада «Василий Шибанов» вошла в школьный курс литературы. Несомненную печать таланта автора как исторического беллетриста несут и небольшие баллады «Князь Михайло Репнин» и «Старицкий воевода».
В этом цикле произведений о событиях отечественной истории второй половины XVI – начала XVII столетий А. К. Толстой, пожалуй, впервые в русской литературе ставит перед собой и читателем болезненный для нашей ментальности и важнейший для понимания исторического пути России вопрос о границах деспотизма власти и безропотной покорности народа. Об актуальности этой проблемы и в наши дни свидетельствуют многие события новейшей истории, в частности сравнительно недавняя острая дискуссия в СМИ по поводу открытия в Орле памятника Ивану Грозному.
Думается, для более объективного представления об этом одиозном историческом лице необходимо не только изучать различные концептуальные оценки его деятельности, изложенные в трудах авторитетных историков, но и внимательно вчитываться в классические произведения об эпохе его правления, в том числе созданные А. К. Толстым, поскольку он, как Пушкин, Лермонтов и другие подлинно талантливые художники слова, писавшие в историческом жанре, обладал редким даром прозревать прошлое: угадывать «дух времени» и доминантные психологические черты исторических лиц.
Эпоха Ивана Грозного вызывала наиболее острый и продолжительный интерес
А. К. Толстого, поскольку он был убеждён, что именно в том времени, когда закладывались основы русской государственности, следует искать истоки и всего негативного в нашей ментальности: деспотизма, лицемерия, предательства, алчности и других пороков, ставших, по мнению писателя, закономерным результатом «заражения татарщиной» во времена монгольского ига.
Период тирании Грозного представлялся Толстому неким апофеозом этого заражения, потому что падение нравственности тогда было фактически инициировано и «узаконено» самим государем, который с помощью учреждённой им опричнины безжалостно расправлялся с аристократией, тысячами казнил невинных людей, а сам предавался оргиям, разврату, грабежам, и трудно назвать порок или грех, которым не была бы осквернена его душа.
На фоне общего падения нравственности, чему немало способствовало поведение самого царя, особое уважение и восхищение у потомков вызывают люди, близкие по духу Алексею Константиновичу: с несгибаемым характером, верные своему долгу, не преступившие законы чести и совести, прямодушные, способные говорить правду в глаза тирану, даже зная, что за это их ожидает мученическая смерть.
Такими мужественными и смелыми людьми, достойными уважения и восхищения Толстого, были стремянный опального князя Андрея Курбского Василий Шибанов, князь Михайло Репнин, старицкий воевода (конюший царя боярин И. П. Фёдоров-Челяднин. – О.В.), воспетые писателем в одноимённых балладах, князь Никита Романович, боярин Дружина Андреевич Морозов и другие положительные герои романа «Князь Серебряный», князь Иван Петрович Шуйский – один из центральных персонажей трагедии «Царь Фёдор Иоаннович», боярин Захарьин-Юрьев в драме «Смерть Иоанна Грозного» и др.
Сам Толстой оба названных выше аспекта своего увлечения эпохой Ивана Грозного очень точно и выразительно сформулировал в романе «Князь Серебряный». В предисловии к нему писатель с горечью признается, что «при чтении источников книга не раз выпадала … из рук, и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования», а эпилог завершает оптимистическим риторическим восклицанием и эмоционально-образным его пояснением:
«Мир праху вашему, люди честные! Платя дань веку, вы видели в Грозном проявление Божьего гнева и сносили его терпеливо; но вы шли прямою дорогой, не боясь ни опалы, ни смерти; и жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и тёмных недрах минувшего».
Наряду с актуальностью исторической тематики не менее значимым фактором популярности произведений А. К. Толстого об эпохе Ивана Грозного является художественно-словесное мастерство автора, высокие качества его языка и стиля, исследовательский интерес к которым искусственно сдерживался в годы советской власти, особенно в период культа личности, упрощённой, вульгарно-социологической оценкой писателя как сторонника теории «чистого искусства».
Не соответствовал временам культа личности с его массовыми репрессиями и пафос художественно-исторических произведений А. К. Толстого, в которых правдиво показаны произвол и безнравственность царя, его опричников, массовые казни, хотя по словам самого Толстого в том же предисловии к роману «Князь Серебряный», «в отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении».
Основным документальным источником для Толстого послужила «История государства Российского» (ИГР) Н. М. Карамзина. ИГР была наиболее авторитетным, подробным собранием сведений о русской истории и – одновременно – богатым арсеналом средств языковой стилизации, создания речевого колорита описываемой эпохи. Концепция Карамзина, основоположника историко-психологической школы, оказала огромное влияние не только на Толстого, но и на Пушкина, Лермонтова и других писателей XIX в., обращавшихся к исторической тематике. Само повествование Карамзина, в большей степени научно-популярное, чем строго научное, к тому же изобилующее психологическими характеристиками исторических лиц (талантливый писатель в авторе ИГР нередко «побеждал» беспристрастного исследователя), способствовало восприятию описываемых исторических событий, деятелей и их оценок как некой непреложной истины: настолько оно гармонировало с мировосприятием и образом мыслей большинства исторических беллетристов XIX века.
Наряду с ИГР писатель использовал целый ряд первоисточников, в частности послания Ивана Грозного и Андрея Курбского, записки иностранных очевидцев – Горсея, Флетчера, Массы и др., разного рода царские указы и т. д. Пользовался писатель и трудами Соловьёва, Костомарова и других историков, которые также ссылаются на первоисточники. На эти литературные памятники и сочинения историков Толстой избирательно опирался при создании документальной основы языка произведений об эпохе Ивана Грозного.
Так, сюжет баллады «Василий Шибанов» Толстой мог найти у Карамзина, но при сопоставлении трёх текстов – баллады, соответствующего фрагмента 9-го тома ИГР и 1-го Послания Курбского Грозному – несложно установить, что такие характерные для стиля опального князя архаичные слова, выражения и грамматические формы, как «ради грех, побил еси, мнишись, в небытную ересь прельщенный» и др. поэт черпает непосредственно из переписки Грозного с Курбским, у Карамзина их нет.
Широко используя доступные источники, Толстой вместе с тем далёк от механического копирования. Учитывая их преимущественно книжный характер, писатель использует методику дробной художественно-стилистической инкрустации: из документальных текстов он отбирает и включает в свой текст отдельные наиболее колоритные слова и их формы, фразеологизмы, словосочетания, реже короткие предложения. В дробной форме документальные языковые средства органически входят в диалоги и монологи героев, составляя их доминирующую стилистическую основу.
Из документов Толстой черпает многие устаревшие языковые средства и в качестве достоверных включает в речь персонажей – реальных исторических лиц. При этом писатель тщательно учитывает стилистическую специфику используемой языковой архаики, выбирает преимущественно такие устаревшие средства, которые были или могли быть употребительными в живой, разговорной речи эпохи Ивана Грозного. Специфически книжные документально-архаизирующие средства Толстой использует в основном для имитации делового стиля эпохи или для создания монологов и диалогов представителей образованной знати, речь которых должна иметь оттенок торжественности или книжности. Всё это способствует стилистической дифференциации речи исторических персонажей, делает её динамичной и выразительной.
Толстой тщательно отбирает из документальных источников не только устаревшие языковые средства, характеризующие специфические особенности русского языка второй половины XVI – начала ХVII столетия, но и актуальную, неустарелую лексику и фразеологию (разговорную, просторечную, народнопоэтическую), неустарелые формы слов, словосочетания, краткие предложения. Благодаря этому документированность речи в исторических произведениях Толстого носит глубинный характер, она распространяется и на основной состав используемых автором актуальных языковых средств.
Бесспорно, все перечисленные качества языка историко-художественных произведений А. К. Толстого – убедительное доказательство высокой степени его мастерства не только как проникновенного лирика, но и исторического беллетриста.
Однако эссе несколько затянулось. Прошу прощения у взыскательных читателей за то, что, вероятно, утомил их большим количеством лингвистических терминов. Но очень уж хотелось показать и менее известные грани разностороннего таланта А. К. Толстого – не только легендарной, но и яркой, самобытной языковой личности.
Читайте его произведения – не спеша, вдумчиво, обращая внимание на все детали, даже кажущиеся на первый взгляд мелкими и незначительными. И тогда художественное мастерство «рыцаря добра и красоты» в ещё большей степени вас очарует и восхитит, и вы найдёте в его гениальных строках столь остро необходимую сегодня пищу для ума и сердца.